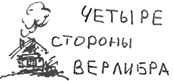
ИДИОТЫ
Dogme # 2: Idioterne (Denmark)
Directed by Lars von Trier
Produced by Zentropa Entertainments
Дания-Франция.
Режиссер: Ларс фон Триер.
Псевдодокументальная лента про дурашливые опыты
образованных хулиганов, которые (привет Коэнам) изобрели
собственную идеологию - пытаются "воспитать в себе идиота",
прилюдно нарушая все табу. (Их нарушает и Ларс фон Триер. В
фильме есть порносцена. Грубая, но необходимая для оценки
ситуации. В съемках участвовали порнозвезды, а фон Триер,
обожающий шокировать публику, вдобавок заявил, что давно
мечтает снять "чистую порнуху".) По логике фон Триера, только
став реальным идиотом, можно игнорировать тот идиотизм, в
котором погряз мир.
Плюсы. Как всегда у фон Триера, финальная сцена заставляет
переосмыслить предыдущие. Оказывается, что фильм трагический,
ведь среди валяющих дурака таились по-настоящему
rp`blhpnb`mm{e жизнью, искавшие успокоения и гармонии.
Общественная реакция. "Догма" Ларса фон Триера -
элементарное желание не закоснеть. Пока что вполне
осуществившееся. Но киносообщество не простило фон Триеру
"пощечины общественному вкусу". Не найдя иного способа
отмстить (это непросто: фон Триер - едва ли не самый
признанный режиссер 90-х), киносообщество объявило, что он
вовсе не революционер, а... играющий в революционность циник.
И поощрило призами соратника фон Триера - Винтерберга. Гораздо
(пока) менее радикального.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ N°26-27
Екатерина Деготь
ЛОГИКА АБСУРДА: ОТ ТУПОСТИ К ИДИОТИИ
Поиск транскритической и трансрефлексивной позиции, поиск возможности превзойти критицизм составляет стержень истории русского авангарда - от критики языка в 1910-е годы до экспериментов с политической (и, что даже более важно, "экзистенциальной") ангажированностью в 1920 - 1930-е, когда советское искусство искало особый язык позитивности вместо западного языка аскезы и редукции, прежде всего экспериментируя с тотальностью пространства. В московском концептуализме также достаточно материала, позволяющего выстроить эту линию как непрерывную. И наконец, 90-е годы ставят вопрос о критике критики почти эксплицитно - настолько эксплицитно, насколько эта принципиально неартикулированная эстетика позволяет.
Одной из причин этих повторяющихся в русском искусстве экспериментов с позитивностью является непричастность русского искусства ХХ века рынку и системе жестких институций - следовательно, фигура любителя играет в нем ключевую институциональную роль. Идиот и есть любитель, любящий; не наблюдатель, а вовлеченный, не критик, а апологет, не человек рацио, а человек эроса. Сейчас он стал ключевой фигурой мировой культуры - достаточно вспомнить об успехе фильма Ларса фон Трира "Идиоты" (о котором речь идет ниже) и фильма "Человечность" Бруно Дюмона, герой которого, полицейский, полон любви по отношению ко всему миру, в том числе и серийному убийце, причем эта любовь и духовная, и физическая: роль порнографии в современном кино (в "Идиотах" также есть маломотивированная сцена группового секса) следует отнести вовсе не на счет желания шокировать зрителя, но скорее на счет желания шокировать границы критического, отстраненного, асексуального, антиреального подхода. Порнография, реальность, абсурд, идиотия - все это инструменты критики критики. Любовь сегодня становится ключевой мифологемой искусства - вместо критического наблюдения, которое - будем честны - также часто не более чем мифологема.
***
В контексте западного модернизма - особенно театра - понятие абсурда обычно связывается с мрачным и безысходным взглядом одинокого субъекта на мир. Но в русском контексте это слово вызывает иные ассоциации. Не субъект вносит абсурдность в реальность - она абсурдна сама по себе, и, более того, это есть одна из ее самых привлекательных характеристик. По крайней мере с 1960-х годов слово "абсурдный" стало восприниматься русскими художниками как одна из наивысших похвал - самой реальности или, если повезет, их работе. Абсурд оказывается неотделим от соблазненности им, от вызываемого им восторга; более того, восторг может вызывать только нечто абсурдное.
Русский авангард вошел в историю не только жестом радикального минимализма ("Черный квадрат" Малевича, 1915), но и жестами безудержной нарративности, которая идет вразрез с главной линией модернизма - аскетической, редукционистской - и вместе с тем не менее радикальна. Перед самым "Черным квадратом", уже будучи к нему внутренне готов, Малевич вдруг отступил на шаг и написал серию картин-"алогизмов", в которых в бессмысленных сочетаниях представали фрагменты разных контекстов: сабля, свеча, лестница, рыба, церковь, ложка, изобразительные и текстуальные цитаты и т. д. Эти перенаселенные картины как бы подводят итог изобразительному искусству, и, как ни странно, отвечают малевичевскому определению традиционной поэзии: "Если рассмотреть строку, то она нафарширована, как колбаса, всевозможными формами, чуждыми друг другу и не знающими своего соседа. Может быть в строке лошадь, ящик, луна, буфет, табурет, мороз, церковь, окорок, звон, проститутка, цветок, хризантема. Если иллюстрировать одну строку наглядно, получим самый нелепый ряд форм" (1). Определение это выражает критическое отношение Малевича к классической нарративной поэзии, в "алогизмах" же он критикует изображение как таковое; однако эта критика выражает себя не в отрицании (после классических работ Клемента Гринберга мы знаем, что критика media совершается путем выявления их границ, путем очищения), а в гипертрофированном, запальчивом утверждении, которое постепенно приходит в противоречие само с собой.
Необходимость постоянного утверждения противоречащих друг другу фактов была высказана и в "Да-манифесте" Михаила Ларионова и Ильи Зданевича (1913), в котором на любые вопросы авторы отвечали "да", а на отрицание был наложен запрет. Этот манифест предвосхищал аналогичные заявления дадаистов, которые тоже неоднократно подчеркивали, что их задача - не отрицание, а утверждение. В модернизме наряду с логикой геометрического минимализма с самого начала существовала и другая логика - постминималистская и посткритическая, которая предполагала не только нарратив вместо геометрии, но и беспринципное приятие всего и вся - вместо критицизма. Внутренняя противоречивость результата придает целому абсурдный характер, что и является залогом его полноты и, следовательно, состоятельности.
В русском искусстве эта логика получила совершенно исключительное развитие. Гиперповествовательность свойственна, например, Филонову, композиции которого просто распадаются на части от обилия вмещенных в них форм. Но особенно важную роль в русском абсурде сыграла поставангардистская поэзия 1930-х годов, прежде всего поэты группы ОБЭРИУ. Обэриуты пошли не по пути фонетического распада языка, а по пути семантического абсурда. Непосредственным продолжателем их эстетики стал Илья Кабаков. У обэриутов он мог найти прием составления бессмысленного списка, тяготение к неуместным канцелярским подробностям (имена, отчества и фамилии всех персонажей), риторический вопрос "где?" и мотив персонажа, сидящего в шкафу или ящике и исчезающего оттуда загадочным способом.
Но главное, что было им воспринято от обэриутов, - это представление о том, что тотальная бессмысленность мира выражается через его пародийную тотальную осмысленность, в которой отношения между словами и реальностью проблематичны. "Разве слово "непременно" пишется так, как ты его пишешь? Ты его пишешь так: "вчера я гулял", - ну что в этом общего со словом "непременно". Слово "непременно" пишется так: однажды; потом семерка, потом река..." - писал Введенский Хармсу в 1932 году (2). Рисунки Кабакова 1960 - 70-х гг. представляют подчеркнуто банальные бытовые сцены, сопровождающиеся "легендой", в которой телевизор означает телевизор, настольная лампа - хорошие отношения героя с женой, а пятно неопределенной формы - "крупный долг одному приятелю"; в картинах-таблицах подробно описано, как был одет, что съел и во сколько ушел каждый конкретный гость на вечеринке. Тотальная учтенность всего, при которой отсутствуют зоны свободы и необусловленности, выступает как абсурдная. Здесь абсурд не есть исключение из рационального порядка, но сам этот бюрократический порядок, абсурдный в силу того, что не осознает своей комичности.
Именно эта нерефлексивность феноменов советской идеологии, психологии, бытовой среды получила среди молодых художников 1980-х годов название "тупости". "Тупой", самодовольный, не видящий себя со стороны предмет (наивно игнорирующий свою непривлекательность, например), персонаж, текст производили сильнейший комический эффект, вызывали восхищение у художников и становились предметом апроприации (такое отношение к советской вещи было заметно уже у наиболее радикальных художников 1960-х, например Михаила Чернышова). Группа "Чемпионы мира", например выкрасила в красный цвет примитивную троллейбусную кассу для билетов, снабдив ее названием "Дикие песни нашей Родины" (1988). В неуклюжем предмете красным цветом была подчеркнута его глухая к реальности гордость собой; в названии идеологическое клише ("Песни нашей Родины") как бы нечаянно проговаривалось о своей "дикости". В годы горбачевской "гласности" все специфические советские слова (не только неологизмы и аббревиатуры, но и, например, активизированные в прессе названия промышленных городов, обладающие таким же мифологическим статусом) начинают восприниматься как глубинно абсурдные: "тупые", тавтологические, не обладающие коммуникативной способностью, не имеющие под собой никакого референта, могущие быть только предметом веры и потому обладающие почти сакральной силой. В серии "газет" Дмитрия Пригова на черном фоне появляются "мистические" слова "перестройка" и "Госагромпром", на картинах Юрия Лейдермана - "Гостелерадио" и "Краматорск". Ленинградские художники и представители т. н. "параллельного кино", называвшие себя в 1980-е - начале 1990-х гг. некрореалистами (их лидером был Евгений Юфит), провозглашали "тупость, бодрость и наглость". В их мрачных и исключительно смешных фильмах и картинах (позднее и в фотографиях Юфита) мир предстает как мертвый, населенный зомби, которые убивают друг друга снова и снова, не прерывая процесса гниения. Однако здесь речь шла уже не столько о "тупости" социального универсума, сколько об "идиотии" (3) самого художника (некрореалисты публично заявляли о своей "умственной деградации") как его персональном пространстве.
В слове "тупой" акцентирован интеллектуальный момент, хотя он и актуализирован через непонимание, в слове "идиот" - момент поведенческий; "тупость" есть критика Логоса за его одномерность, но только "идиотия" радикально ставит Логос под вопрос. "Тупость" проявляется в буквальности и повторяемости, "идиотия" - в свободе от них; "тупость" дискоммуникативна, "идиотия", напротив, есть утопическая (обреченная на неудачу) попытка непосредственной коммуникации. Она выводит искусство из пространства языка в пространство психологии и этики: ассоциации с Достоевским неизбежны.
Одним из первых роль художника-неудачника, демонстрирующего свои комплексы, взял на себя Юрий Лейдерман в работе "Обижают" (1988), представлявшей собой лозунг с этим словом на длинной палке, украшенной трогательными розочками. Роль "идиота" нередко берет на себя в автопортретных фотосериях Борис Михайлов ("Я не я", 1992, где немолодой уже художник снял себя голым в комичных автоэротических сценах). Олег Кулик выступает в роли человека-собаки, а также в других ролях, конфронтирующих его с враждебным или неадекватным контекстом; Александр Бренер провозгласил право художника на каприз - "последнее право великого индивидуалиста... его головокружительный прыжок с небоскреба самодовольства и унылости в сияющий бассейн блядства, безумия, экстаза и идиотизма" (4). Перформансы самого Бренера, в которых он, например, пытался ворваться в Министерство обороны, чтобы надеть на министра домашние тапочки, или же просто пытался перепрыгнуть через высоко натянутую веревку, предполагали с самого начала неудачу автора и его публичное унижение. Художники группы "Фенсо" работают с "идиотизмом" подростковой среды, когда в серии инсценированных фотографий играют роль школьников, "в шутку" хватающих друг друга за гениталии. Неопределенные, неловкие жесты, намекающие на мастурбацию, используются в фотографиях Татьяны Либерман, посвященным скучающей домохозяйке (серия "Игра воображения", 1995).
Характерно, что эти жесты суггерируют именно эротический контекст и из них должна быть извлечена непосредственная гратификация, а не практический или символический смысл. Тотальная эротика становится пространством, относительно защищенным от логики и критицизма (таким же пространством являются и абсурд, идиотия, неловкость, незрелость, случайность - излюбленные категории искусства 90-х годов). Если раньше универсальной моделью для художника была фигура критика (теоретика, философа), то теперь - фигура любителя, импульсом деятельности которого является не познание, не критицизм, а, как следует из самого слова, "любовь" - безграничная позитивность, с внешней точки зрения выглядящая как "идиотская" и абсурдная. С категорией любительства много работает Вадим Фишкин, в чьем проекте "Домашняя телеинсталляция" (1996) художник с телеэкрана давал подчеркнуто серьезные инструкции телезрителям по изготовлению дома инсталляции вокруг телевизора ("Возьмите, пожалуйста, книгу и положите ее справа от телевизора, слева положите одно яблоко...").
В 1990-е годы искусство перешло от работы с абсурдностью языка к работе с абсурдностью самой жизни, и эстетическим эффектом становится не ирония, но чувство эйфории, разрешающееся в смехе. В фоторомане Людмилы Горловой "Тихий Дон - 2" (1998) снята реальная жизнь бывшей казачьей станицы, которая сегодня представляет собой странный спектакль: вооруженные люди в исторических костюмах, с националистическими лозунгами, которые казались художнику страшными до тех пор, пока она не узнала, что это бывшие артисты казачьего народного хора. Хаотическая смесь реального и инсценированного, старого и нового восхитила Горлову и заставила ее вложить в уста героев в виде комиксовых "пузырей" одновременно цитаты из романа Шолохова "Тихий Дон", из песен, современной рекламы и просто уличных разговоров. Так, пока одна из героинь в костюме XIX века поет известную официозную песню советского времени, другая замечает: "У меня, Светка, такой целлюлит", а казак в дореволюционной форме мечтает вслух: "Пепси бы щас".
Еще один вариант абсурдизма представлен в фотосерии Бориса Михайлова "Если бы я был немцем" (1995), где он демонстрирует фантазматические картины идиллического сожительства нацистских офицеров с населением оккупированных территорий Украины. Вопрос "а что было бы, если" лежит в основе также и проекта группы АЕС "Туристическое агентство "АЕС - "свидетели будущего"" (1996 - 1998) - плакатов с изображением мировых столиц после завоевания их бедуинами. В обоих случаях трансгрессия сильных идеологических табу (советской пропагандистской истории Второй мировой войны или американской политической корректности) дестабилизирует зрителя и, следовательно, приводит к абсурдному эффекту; но сам абсурд мотивируется в одном случае прошлым, в другом - будущим временем.
Как видим, художественно рискованным является сегодня позитивное утверждение, а не отрицание, как это было в авангарде начала ХХ века. Впрочем, и у Михайлова, и у АЕС (да и в "Тихом Доне - 2" Людмилы Горловой) перед нами высказывание не строго позитивное - оно сформулировано в сослагательном наклонении. Это "если бы" выдает в современной культуре безусловное влияние кино, движущегося образа вообще (Горлова прямо называет свой проект фрагментами несуществующего фильма, то же самое мог бы сказать и Михайлов, а многие художники сегодня, как известно, выражают свои идеи средствами видео). Недаром наиболее ярким произведением, концептуализирующим всю современную линию идиотизма в искусстве, является фильм: картина Ларса фон Трира "Идиоты" (1998), герои которого развлекаются, разыгрывая умственно отсталых, ведущих себя с не принятой в обществе непосредственностью. Подобно тому как Малевич в своих "алогизмах" продемонстрировал неизбежный абсурдизм любого знака, любой условности, фон Трир демонстрирует нередуцируемый абсурдизм ("идиотию") любой непосредственности (фильм снят с использованием видеокамеры).
Современное тяготение к "идиотии" как форме внутренней, неразрешенной абсурдности является интернациональным феноменом. Абсурдная работа восхищает потому, что противоположные смыслы сосуществуют в ней в не сведенном к нулю виде, что она достойна противоречивости самой реальности. У русских художников имеется довольно большой опыт описания такой, противоречивой, реальности, поскольку в России риторическая фигура диалектической "полноты жизни" всегда обладала особой культурной значимостью, а в СССР она стала выступать в роли жесткого репрессивного требования (основой сталинской культурной политики и эстетики был приказ "смотреть на мир всесторонне", примирив противоположные точки зрения, разные "уклоны"). Расцвет абсурдизма в русской литературе и искусстве ХХ века является оборотной стороной этой риторической фигуры и реакцией на этот приказ: художники и поэты стали мыслить еще более абсурдно, чем того требовала власть. "Один человек думает логически, много людей думает текуче. Я, хоть и один, думаю текуче" (5), как написал один из величайших абсурдистов русской литературы Даниил Хармс.